Начало 1960-х: триумф и трещины квантовой теории
В начале 1960-х квантовая физика считалась одной из самых успешных теорий в истории науки. Она с беспрецедентной точностью объясняла явления от структуры атомов и химических связей до работы лазеров и сверхпроводников. Для многих она стала не просто инструментом, а всеобъемлющей структурой для понимания микромира элементарных частиц. Однако вскоре выяснилось, что фундамент этой структуры оказался зыбким — и заметил это не физик, а начинающий философ.
Разразившиеся дебаты не только открыли новые пути для осмысления основ квантовой теории, но и скрывали в себе — незамеченный участниками — совершенно иной философский подход, восходящий к феноменологии Эдмунда Гуссерля. Влияние этой смены перспективы стало ясно лишь сегодня, предлагая новое понимание квантовой механики и переосмысление отношений между философией и наукой.

Хилари Путнам и проблема измерения
Философом, запустившим эти дебаты, стал Хилари Путнам, позже прославившийся работами в философии языка, сознания, компьютерных науках и математике. В 1961 году он ответил на статью, предлагавшую разрешение парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР), который, казалось, демонстрировал неполноту квантового описания реальности. Путнам же указал на более глубокую проблему, коренящуюся в самой теории: как объяснить переход от квантовой суперпозиции к определённому результату при измерении?
Волновая функция и сознание: спор с фон Нейманом
Ключевой элемент квантового формализма — волновая функция, описывающая систему (например, электрон) как суперпозицию всех возможных состояний. Однако при измерении мы всегда получаем конкретный результат (например, спин «вверх» или «вниз»), но не их смешение. Математик Джон фон Нейман утверждал, что любое физическое взаимодействие (детектор, мозг наблюдателя) остаётся частью суперпозиции. Следовательно, переход к определённому состоянию должен вызываться сознанием наблюдателя — идея, позже подхваченная эзотериками.
Путнам возражал: если сознание «коллапсирует» волновую функцию, квантовая теория неприменима ко Вселенной в целом, ведь для этого потребуется наблюдатель за её пределами. Это ставило под вопрос универсальность квантовой механики.
Феноменологический поворот: Лондон, Бауэр и Гуссерль
Спор между Путнамом и сторонниками фон Неймана (как физик Юджин Вигнер) длился годы. Но обе стороны упустили, что́ стояло за их главным источником — брошюрой физиков Фрица Лондона и Эдмонда Бауэра «Теория наблюдения в квантовой механике» (1939). Её считали лишь пересказом фон Неймана, но на деле это был шаг к феноменологии.
Лондон, гениальный физик (соавтор теории сверхпроводимости), в юности изучал феноменологию у Александра Пфендера, ученика Гуссерля. Влияние этого подхода видно в тексте: авторы описывают измерение как корреляцию между сознанием наблюдателя и системой. В отличие от фон Неймана, они включают сознание в квантовую суперпозицию, следуя идее Гуссерля о взаимозависимости субъекта и объекта.
Сознание как «творец объективности»
Лондон и Бауэр отвергали мистическое влияние сознания на коллапс волновой функции. Вместо этого они объясняли переход от суперпозиции к определённости через рефлексию — способность наблюдателя «отделить» себя от системы и создать новую объективность. Это акт интроспекции, позволяющий «обрезать» цепь квантовых корреляций. Как писал Лондон:
«Наблюдатель устанавливает свою рамку объективности, получая новую информацию об объекте».
Наследие феноменологии в современной физике
Работы Лондона и Бауэра стали мостом между квантовой механикой и феноменологией, предвосхитив идеи декогеренции (потери квантовой когерентности при взаимодействии с макроприборами). Позже Морис Мерло-Понти и Патрик Хилан развивали эти идеи, а Мишель Битболь объединил феноменологию с QBизмом — интерпретацией, где волновая функция отражает опыт наблюдателя-агента.
Новая эпоха диалога
Феноменологический подход не «решает» проблему измерения, но меняет угол зрения: квантовая механика — это теория знания, где наблюдатель и система взаимно определяют друг друга. Современные сборники вроде «Феноменология и QBизм» (2024) подтверждают растущий интерес к этому синтезу. Как писал Гуссерль, науке нужен возврат к «вселенной субъективного» — и квантовая физика, кажется, проходит этот путь.
Феноменология и будущее науки
Сегодня феноменологический подход стимулирует исследования в квантовой теории информации и квантовой гравитации. Например, идея корреляции между наблюдателем и системой перекликается с концепцией квантовой запутанности, где разделённые частицы сохраняют связь. Вопросы, поднятые Гуссерлем и Лондоном, заставляют пересмотреть саму природу научной объективности: возможно, истина рождается не в «чистом» эксперименте, а в диалоге между человеческим сознанием и материей.
Как заметил Арнон Гурвич, друг Лондона: «Физика XX века вернула философию в лаборатории». И этот диалог лишь начинается.
В нашем Telegram‑канале, вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Поделитесь:
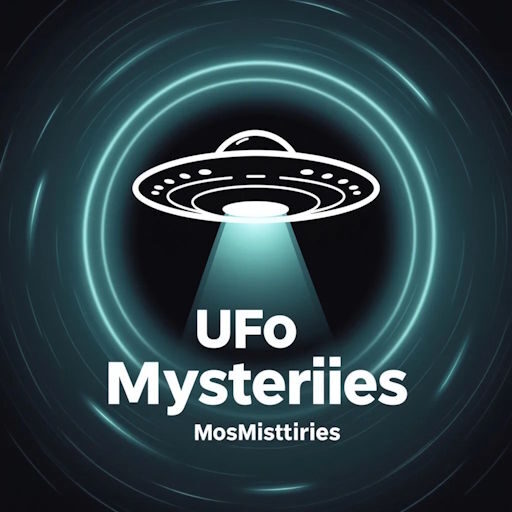
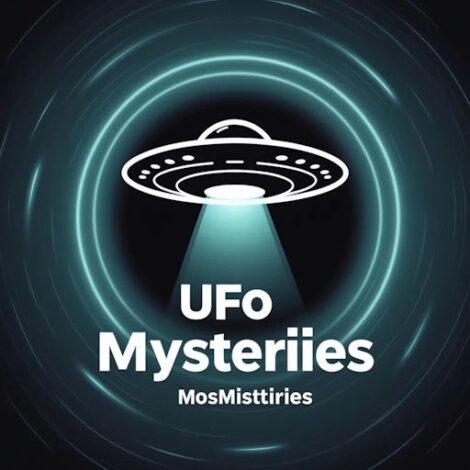

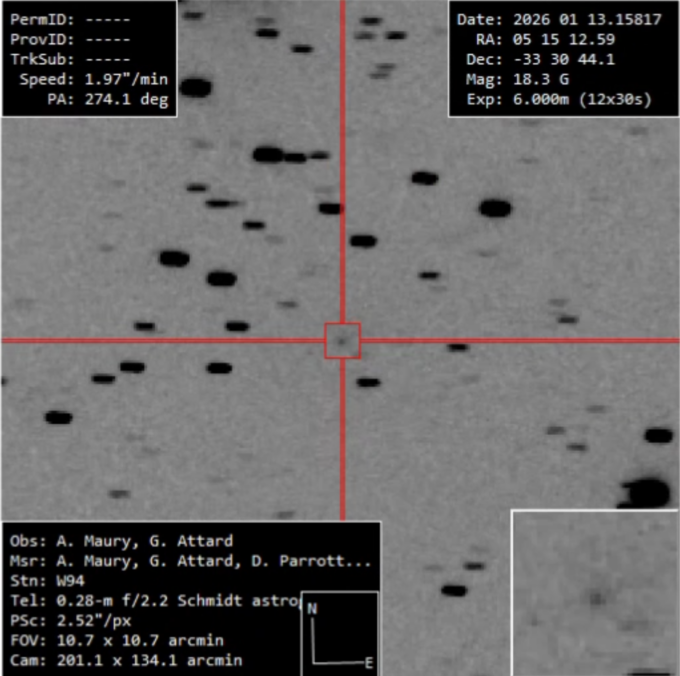
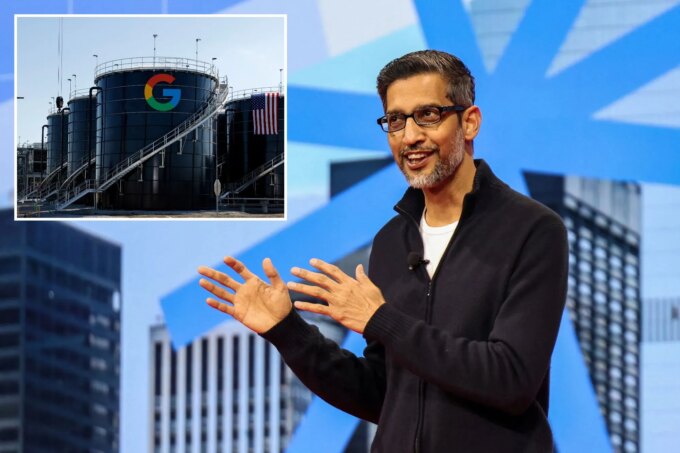

Оставьте Комментарий