Философ языка из Оксфорда Джон Лэнгшо Остин умер 8 февраля 1960 года, всего через несколько месяцев после получения «серьёзного» диагноза. Его друг Исайя Берлин назвал это «мёртвой тайной» — сам Остин не представлял, как мало времени ему осталось. Накануне нового семестра он попросил всего четыре недели отпуска, пока «не пройдёт воспаление желёз». Спустя пять недель его не стало.
Сегодня Остин известен благодаря теории речевых актов, утверждающей, что язык не просто передаёт информацию, но и совершает действия. Проще говоря, мы действуем словами. Однако в поздней переписке Остина одно слово отсутствовало. Рак. Рак лёгких, тот самый «серьёзный» диагноз, унёс его жизнь в 48 лет.

Как и многие в то время, врачи, семья и друзья Остина избегали называть болезнь. «Рак» был шёпотом, табу, слишком ужасным для произнесения вслух. Врачи скрывали диагноз, опасаясь, что само его упоминание лишит пациентов надежды и приблизит конец. Как заметила одна писательница:
Больным раком лгут не только потому, что болезнь (или её считают) смертным приговором, но и потому, что её воспринимают как нечто непристойное — в самом прямом смысле: зловещее, отвратительное, оскорбляющее чувства.
Этой писательницей была Сьюзен Сонтаг — как и Остин, она глубоко понимала силу языка. В эссе «Болезнь как метафора» (1978) Сонтаг показала, как метафоры, связанные с болезнями, особенно раком, не просто описывают реальность, но формируют восприятие, укрепляют стигму и навязывают вредоносные нарративы. Она призывала «освободиться» от этих метафор, перестать видеть в раке «злого, непобедимого хищника».
Сонтаг умерла от рака в 2004 году. К тому времени повествование изменилось. Когда ей впервые диагностировали рак груди в 1975-м, не было розовых лент или призывов к ранней диагностике. Но к моменту её смерти рак превратился из личной трагедии в публичную битву. Женщины выступали солидарно, мужчины отращивали усы в рамках Movember, спортсмены надевали розовую форму, а цветные браслеты символизировали поддержку больных лейкемией или раком поджелудочной.
Рак перестал быть позорным табу — теперь это был боевой клич. Разрушение молчания, безусловно, стало прогрессом. Но новые метафоры породили новые ожидания. Болезнь превратилась в «войну», пациентов — в «воинов», призываемых «сражаться до конца». На рекламных щитах у дорог: «Мы боремся за вас», «Ваша битва начинается здесь». Онкоцентры вербуют пациентов, публичные кампании призывают к бдительности против «скрытого врага». То, что когда-то боялись назвать, стало призывом к действию.
Сегодня многие опасаются, что маятник качнулся слишком далеко. Гиперлечение — вмешательства, которые чаще вредят, чем помогают, — стало серьёзной проблемой в онкологии. Например, в США ежегодно более 50 000 мужчин получают диагноз «низкорисковый рак простаты». Такие опухоли редко прогрессируют, и наблюдение часто безопаснее операции. Однако более половины пациентов всё равно выбирают агрессивное лечение, рискуя импотенцией и недержанием — без очевидной пользы.
Мы лечим не потому, что это помогает, — а потому, что альтернатива кажется капитуляцией.
Та же динамика — с раком груди. Ежегодно у 50 000 женщин выявляют протоковую карциному in situ (DCIS) — неинвазивную форму с низким риском прогресса. Но почти все соглашаются на операцию, треть — на мастэктомию. Исследования показали, что наблюдение безопасно, но пациенты всё равно выбирают удаление. Как заметил один эксперт: врачи привыкли действовать, а пациенты ожидают, что «рак нужно вырезать».
Гиперлечение касается и терминальных стадий. В США около 700 000 человек живут с поздним раком. Каждый третий получает агрессивную терапию в последние месяцы, каждый пятый — химию за недели до смерти. Эти методы редко продлевают жизнь, но всегда ухудшают её качество. Руководства призывают отказаться от таких практик, но инерция сохраняется. Мы лечим, потому что бездействие feels like giving up.
Как врач, я вижу это ежедневно. Услышав «рак», пациенты готовы к бою. Некоторые согласны на токсичное лечение, лишь бы «победить болезнь». Даже когда доказательства поддерживают наблюдение, идея «ждать» кажется капитуляцией. Цитируя одного пациента: «Бездействие — не выбор».
Речь как действие: Иллокутивная сила диагноза
По Остину, иллокутивная сила — это то, что слова совершают в момент произнесения. «Обещаю» создаёт обязательство, «Виновен» — меняет статус. Диагноз «рак» действует так же: он не просто констатирует факт, а назначает человеку роль борца. Рекламные слоганы вроде «Победим рак!» не вдохновляют — они предписывают: проявлять силу, упорство, активность. Этот эффект можно назвать «синдромом бойца».
Синдром бойца — двигатель гиперлечения. Из-за него мужчины с низкорисковым раком простаты удаляют железу, женщины с DCIS — грудь, терминальные пациенты — тратят последние дни на бесполезную химию. «Рак» требует действия. Как сказал один больной: «Надо что-то делать!»
Переименовать или переосмыслить?
Некоторые онкологи предлагают отказаться от слова «рак» для низкорисковых случаев — например, называть их «индолентными поражениями». Цель — заблокировать иллокутивную силу, предотвратить «синдром бойца». Но это похоже на борьбу с наводнением плотинами: проблема остаётся в культуре страха. Альтернатива — переосмыслить силу слова.
Почему переосмысление лучше?
- Лечит корень проблемы. Переименование похоже на замену слова «вакцина» на аббревиатуру — оно не меняет сути страхов.
- Уважает автономию. Скрывать диагноз — патернализм. Как обман друга, который ненавидит цукини, подав их под видом «кабачков».
- Устойчивость. Эвфемизмы хрупки — пациенты всё равно спросят: «Это рак?» А узнав правду, потеряют доверие.
Как изменить силу слова?
Иллокутивная сила — не законы физики. Она зависит от социальных норм. Обещание значимо, потому что общество ценит честность. Диагноз «рак» нагружен смыслами, которые мы сами создали. Чтобы изменить их, нужно:
- Отказаться от военных метафор. Врачам — говорить о рисках и выборах, а не о «битвах».
- Публичным кампаниям — избегать образов войны, давать информацию без запугивания.
- Пациентам — позволить выбирать идентичность: «боец», «путешественник», «наблюдатель» без давления.
Сонтаг, критиковавшая метафоры рака, сама стала их жертвой. Её сын описал, как она «сражалась до конца», перенеся токсичные процедуры, усугубившие её состояние. Даже сегодня многие видят в паллиативной помощи «капитуляцию».
Освобождение от стигмы — не отрицание тяжести рака, а право пациента решать, что для него значит болезнь. Как писал Остин, слова действуют. Но их сила — в наших руках. Рак не должен быть ни шепотом, ни боевым кличем. Его нужно называть чётко — чтобы решение лечить или нет стало осознанным выбором, а не принуждением.
В нашем Telegram‑канале, вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Поделитесь:
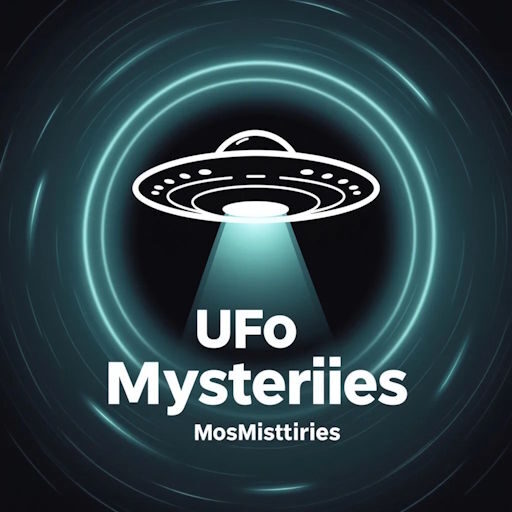
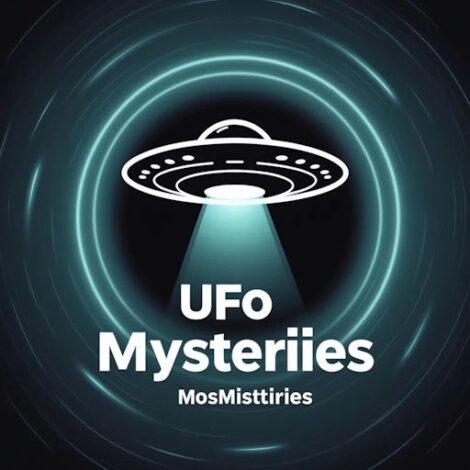
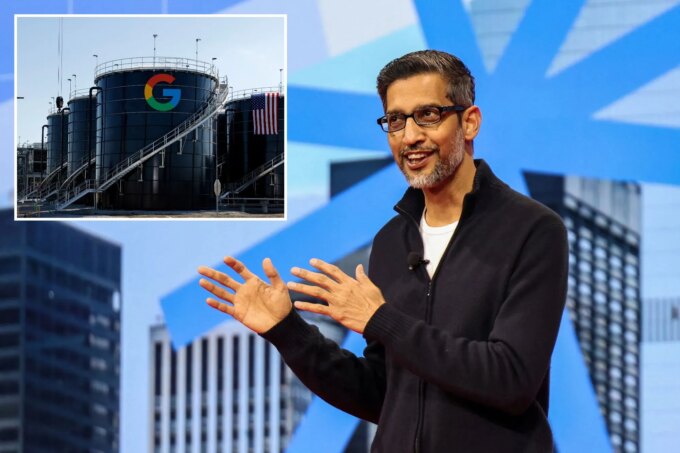


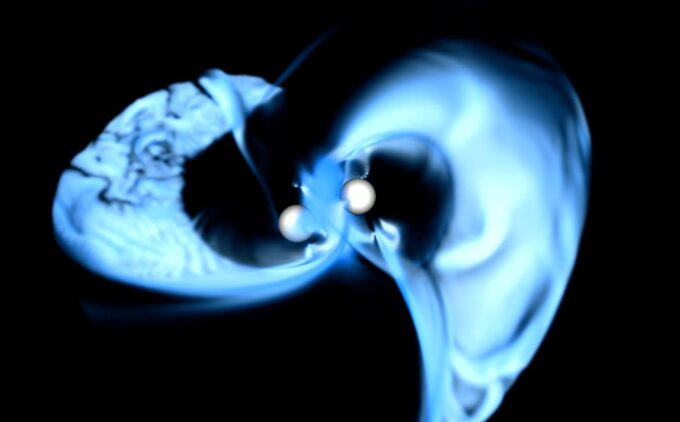
Оставьте Комментарий