Французский философ Рене Декарт (1596–1650) традиционно считается одним из основателей современной западной философии и науки — мыслителем, возведшим разум в принцип поиска истины и сформулировавшим знаменитое cogito: «Я мыслю, следовательно, существую». Его идея дуализма души и тела на протяжении веков вызывала множество возражений — от критики теологов XVII века до феминисток XX столетия. Во Франции, несмотря на то что решение Национального конвента 1792–1795 годов о переносе останков Декарта в парижский Пантеон так и не было реализовано, философа почитают как «великого человека», национального героя, а эпитет «картезианский» до сих пор остаётся комплиментом, подчеркивающим здравомыслие и методичное применение разума.

Однако Декарт не всегда был бесспорным символом рационализма. В Англии и Нидерландах XVII века его публично и неоднократно обвиняли в мошенничестве и лжи, утверждая, что он манипулировал читателями, превращая их в своих последователей. Наряду с научными и философскими возражениями современников звучали и ad hominem обвинения: критики утверждали, что Декарт намеренно использовал хитрые и нечестные стратегии, чтобы сделать читателей невежественными, а значит — податливыми для контроля. Таким образом, основатель современной науки, по мнению его оппонентов, был не просветителем, а торговцем невежеством.
Одним из таких критиков стал протестантский учёный и теолог Мерик Казобон (1599–1671), член англиканской церкви, в 1668 году написавший пространное письмо о «всеобщем знании». В нём он осуждал растущее, как ему казалось, невежество современников и прямо обвинял Декарта в том, что тот призывал читателей отречься от прежних убеждений и забыть всё ранее усвоенное: «Человек должен сначала сбросить с себя всё, что он когда-либо знал или во что верил».
Парадокс радикального сомнения
На первый взгляд, обвинение в адрес рационалиста кажется парадоксальным, но оно имеет под собой основания. Декарт действительно не восхвалял невежество как таковое, но призывал отказаться от всех предрассудков и ложных знаний, как это сделал он сам, разочаровавшись в усвоенных с детства догмах. В Рассуждении о методе (1637) философ описывает, как, обучаясь в престижном Коллеж де Ла Флеш, он увлёкся философией, теологией и математикой, но позже столкнулся с противоречиями и ошибками, заставившими его усомниться во всём. В Медитациях (1641) Декарт развивает эту мысль: столкнувшись с сомнением, он решил отринуть все прежние мнения, чтобы заново выстроить знание на прочном фундаменте. Этот «гиперболический» скептицизм, ведущий к временному невежеству, многие современники сочли опасной крайностью, а некоторые — прямым призывом к интеллектуальной капитуляции.
Казобон в своём письме утверждал, что Декарт преподносил невежество как путь к постижению тайны cogito — уверенности в собственном существовании. Однако результатом такого самоотречения, по мнению теолога, становились лишь отчаяние и одиночество. Жертвы картезианской «манипуляции», переживая экзистенциальную тревогу, в конечном итоге вынуждены были «цепляться за него [Декарта] зубами и ногтями», становясь его учениками.
«Сначала они низвергают людей в бездну отчаяния, — писал Казобон о Декарте и других «сектантах» (иезуитах и пуританах), — а затем, используя свои инструменты убеждения, возносят их к вершинам уверенности... сохраняя власть вновь низвергать и возносить. Это привязывает доверчивого ученика, познавшего ужас отчаяния и комфорт иллюзии, к гуру неразрывной зависимостью».
Эмоциональные качели — от «бездны отчаяния» к «вершинам уверенности» — истощали жертв, заставляя их видеть в Декарте единственного спасителя, хотя именно он, по иронии, и был источником их страданий.
Философия как газлайтинг
Методы, описанные Казобоном, поразительно напоминают современный термин «газлайтинг» — форму психологического насилия, заставляющего жертву сомневаться в собственном рассудке. Ещё за 25 лет до Казобона голландский теолог Мартин Схоок (1614–1669) в трактате Admirable Method (1643) обвинял Декарта в том, что его философия ведёт к безумию: «Взрослый, который всё забывает, становится невеждой, а где всеобщее невежество — там царит умственное расстройство». Для Схоока картезианское сомнение было инструментом распространения невежества, а призыв к «медитации» — поощрением лени, особенно среди молодёжи. Жертвами, по его мнению, становились наивные и малообразованные люди, ослеплённые авторитетом философа.
Религиозный подтекст и сопротивление новому
Обвинения в адрес Декарта не были свободны от религиозной подоплёки. Казобон и Схоок, защитники протестантизма, видели в нём последователя методов католической церкви, которая, по мнению реформаторов, удерживала паству в невежестве ради контроля. Даже в научных кругах Англии, таких как Лондонское королевское общество, религиозные взгляды Декарта (католика по рождению) вызывали подозрения. Учёные хвалили его идеи, но неизменно оговаривались: «несмотря на заблуждения в вере».
Кроме того, критики воспринимали картезианство как угрозу традиционному знанию. Казобон опасался, что упор на метод уничтожит многовековую мудрость, а Схоок предрекал, что «новизна» философии Декарта приведёт к массовому умопомешательству. Эти страхи были преувеличены, но не лишены оснований: радикальное сомнение, как заметил Мишель Фуко в Истории безумия (1961), граничит с безумием. Сам Декарт, по воспоминаниям биографа Адриана Байе, переживал экзистенциальные кризисы, а его «очищающее» сомнение, возможно, коренилось в травматических сновидениях 1619 года, где стиралась грань между явью и бредом.
Между разумом и безумием
Обвинения Казобона и Схоока, хотя и мотивированные религиозной полемикой, затрагивают важный аспект картезианства: путь к истине у Декарта начинается не с холодного рассудка, а с эмоционального потрясения — столкновения с хаосом сомнения. Современные исследователи, такие как Тристан Дагрон, видят в этом травматический, почти мистический опыт, который Декарт превратил в системный метод. Его философия, таким образом, оказывается не только триумфом рационализма, но и результатом попытки преодолеть экзистенциальный кризис. Возможно, именно этот синтез отчаяния и дисциплины разума делает Декарта фигурой, через которую modernity — эпоха Просвещения и сомнения — обрела свой голос.
Современный взгляд: актуальность критики
Сегодня, в эпоху информационных войн и постправды, обвинения в адрес Декарта звучат удивительно современно. Манипуляция через сомнение, газлайтинг, эксплуатация когнитивных dissonance — всё это инструменты, которые, как и в XVII веке, используются для контроля над сознанием. Современные философы, такие как Лиза Феррари или Джейсон Стэнли, исследуя феномен «интеллектуального авторитаризма», нередко проводят параллели с историей картезианства, подчеркивая: сомнение, будучи основой критического мышления, может стать и оружием против него. Декарт, сам того не желая, показал, как тонка грань между освобождением разума и его порабощением.
В нашем Telegram‑канале, вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Поделитесь:
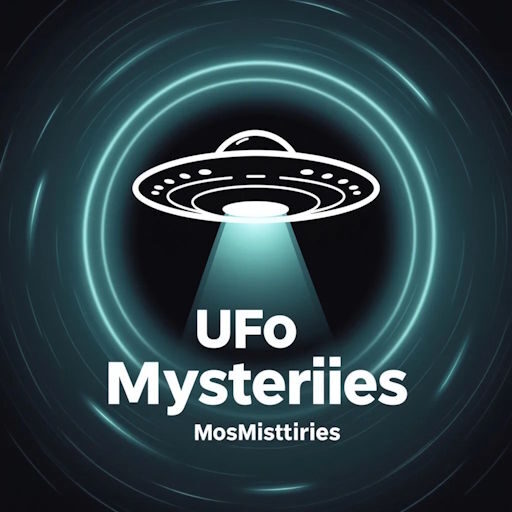
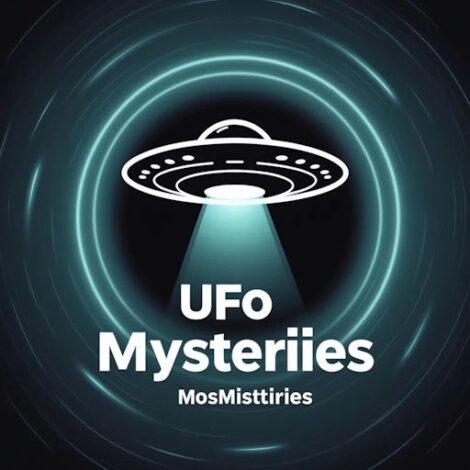

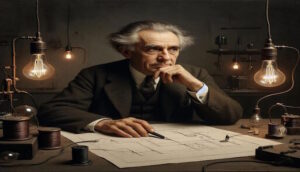
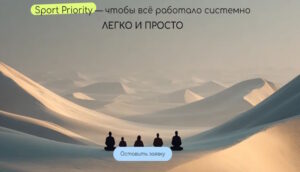


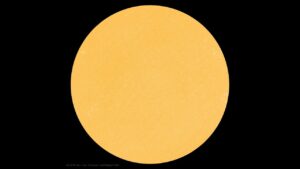
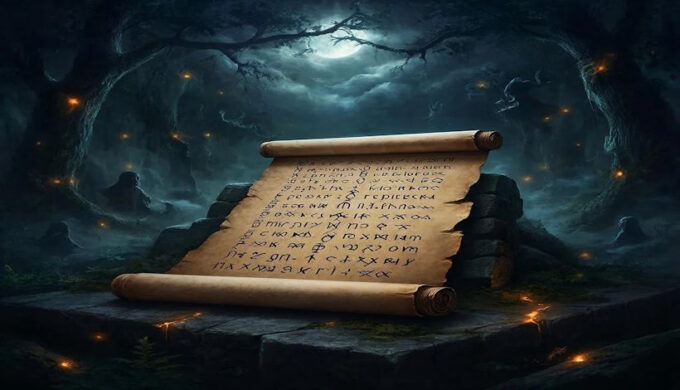
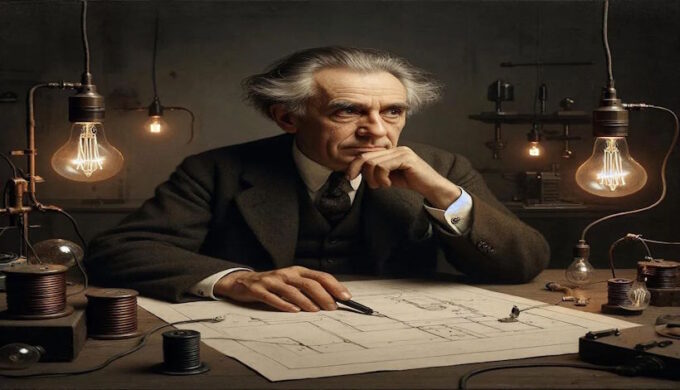


Оставьте Комментарий